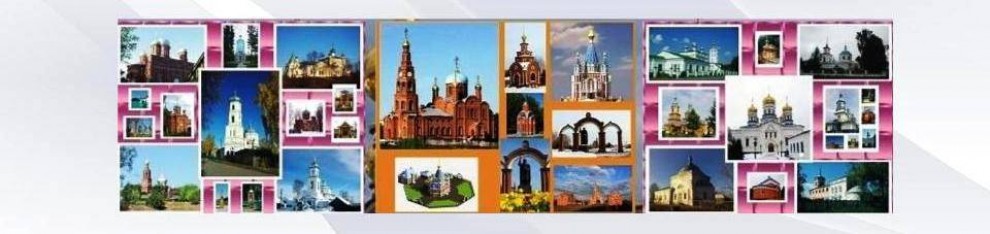Свою точку зрения по данной ситуации высказал отец Роман Степанов, клирик храма св. Николая г. Новочебоксарска
Свою точку зрения по данной ситуации высказал отец Роман Степанов, клирик храма св. Николая г. Новочебоксарска
22 Марта 2016 — Новости Чувашии | Новости Чебоксар и Новочебоксарска
В Интернете до сих пор обсуждают новость о том, что представитель патриаршей комиссии по вопросам семьи Артемий Владимиров назвал неподходящими для формирования идеала семьи некоторые произведения Чехова, Бунина и Куприна для учащихся школ старших классов. В Сети появилась информация о том, что представитель РПЦ назвал некоторые рассказы Александра Куприна, Ивана Бунина и Антона Чехова «миной замедленного действия» для учащихся школ. Как отметил Артемий Владимиров, в русской литературе есть множество произведений для правильного формирования идеала семьи. Специалисты же выбирают для изучения школьниками те, которые не подходят для этого. Например, «О любви» Чехова, «Куст сирени» Куприна и «Кавказ» Бунина. В них якобы воспевается свободная любовь. В первом случае обманутый муж убивает себя, во втором — распадается семья, в третьем — адюльтер кончается ничем.
Свою точку зрения по данной ситуации высказал отец Роман Степанов, клирик храма св. Николая г. Новочебоксарска
По словам священника Романа Степанова, перед тем как встретиться с корреспондентом pg21.ru он перечитал все данные произведения.
«Я считаю, что нет никакого смысла запрещать названные произведения этих авторов. По моему мнению в школьном курсе литературы следует прививать учащимся творческую свободу, критическое мышление, навык литературного анализа и интерпретации.
Я убежден в том, что то или иное запрещение некоей властной подавляющей инстанцией конституирует желание преодоления этого подавляющего запрещения, т.е. запрещая нечто деструктивное (я не говорю о классике не подумайте) мы активизируем деструкцию. И если мы ищем блага всего общества, то нам необходимо научить это общество видеть то, что представляет угрозу тому хрупкому единству, благодаря которому мы имеем возможность без страха существовать в нашей повседневности. И угроза целостности первичной социальной группы (семьи) есть угроза единству вторичной социальной группы (общество, в которое субъект погружен).
Свобода одного человека ограничивается свободой другого и только уважая мировоззрение каждого из участников общественного процесса мы утверждаем право на суверенитет нашей мировоззренческой позиции и свободы наших суждений. Но о запрещении литературных произведений, как это стало известно из комментария священника Артемия Владимирова, а также официального спикера патриархии Владимира Легойды, и речи не было.
Более того, скажу, что касается Чехова: мне довелось слышать выступление Святейшего патриарха Кирилла, в котором патриарх рассказал, что в советское время, когда всякий верующий испытывал социальное и политическое давление, произведения Чехова помогали ему не унывать. Он отметил большую пользу остроумия этого писателя. И это мнение патриарха. Но не в этом дело. Сколько людей столько и мнений. Мы православные христиане при нашем вероучительном единстве можем применять в нашем научном поиске и в нашей практике самые различные теории и иметь отличающиеся друг от друга политические предпочтения. Эти вопросы нашей веры не касаются.
На мой взгляд настоящая проблема заключается не в субъективном мнении конкретного священника и конечно же не в разлагающем влиянии определенных произведений – упаси Бог. Но в подаче этого “горячего” материала в СМИ.
Что мы читаем в заголовках “Церковь решила запретить книги русских классиков”, “РПЦ запрещает школьникам читать Чехова” или местное “В Чебоксарах высказались о запрете церковью рассказов Чехова и Бунина для школьников”.
Во первых: Церковь сегодня, слава Богу, не имеет власти запрещения и цензурирования образования или печати. Более того, мы — христиане вовсе не претендуем на идеологическую функцию социальной консервации, ибо всякая политизация религии, становление ее средством ратификации властных притязаний того или иного господина, есть симптом смерти религии и оскудения живого общения с Богом и замена этого общения идолопоклоннической симуляцией с фигурой господина в центре.
Поэтому то, что мы можем сделать – это призвать в проповеди наших братьев и сестер воздержаться от знакомства с тем или иным материалом или же призвать их изучить предполагаемый материал с рассуждением и критикой. Запрещение элементов учебного плана вне нашей компетенции. Этим в нашем государстве должно заниматься, как я полагаю, министерство образования
Но, отмечу, что в своем суждении оное министерство должно учитывать мировоззренческие приоритеты всех участников процесса стабильности социального единства, в том числе и людей, которые исповедуют религиозные убеждения. На мой взгляд это вполне демократично и справедливо.
Во вторых чрезвычайно вопиющей журналистской нечестностью является тотализация мнения отдельного священника, как суждения всей Церкви. Православная Церковь высказывается не через отдельного человека (это решительным образом отличает нас от католиков), а через соборное решение, принятое на поместном или архиерейском соборе. Только подписанное всеми участниками собора (а это: все епископы, священники, представители верных мирян) соборное определение можно считать голосом запрещения или суждения всей полноты Русской Православной Церкви. Мнение отдельного лица – мирянина, священника, епископа и патриарха (епископа, которому принадлежит первенство чести среди прочих епископов и мнение которого весьма авторитетно) до соборного обсуждения есть лишь его субъективное мнение.
Поэтому у меня и многих думающих людей возникает вопрос как высказанное мнение одного священника вдруг стало мнением всей Церкви? Как частное стало общим? Как единичный элемент стал целым? Что стоит за этой подменой? Какова истина желания этих субъектов?
На мой взгляд современные СМИ, как впрочем и все участники нашего социального пространства, чрезвычайно замотивированы капиталом.
Как известно доход то или иное печатное или электронное издание получает от публикуемой рекламы, стоимость которой индексируется в зависимости от рейтинга посещаемости или просмотра. Подобный “горячий” материал, который касается конфликта Церкви и общества для СМИ, которые нуждаются в постоянном наполнении контента рейтинговыми публикациями, является беспроигрышным.
Но для того, чтобы это было так ему необходимо придать характер прежнего антиклирикального вызова. Подобная история хорошо отыгранный культурный сценарий социального спектакля, в котором всякий субъект мало-мальски считающий себя свободным (а быть свободным это тоже очень важный для субъекта культурный императив) все всяких сомнений отнесет себя к противникам этого подавляющего мракобесного запрещения чтения классических произведений (о коих, заметим, как показал опыт диалога, при всей их свободе и решительном несогласии мало, что кому известно).
Это хорошо протоптанная тропа дешевой разрядки и дешевого наслаждения, зарегистрированная в результате реального конфликта на корпусе коллективных представлений (термин Дюргейма), архив определенного высказывания, которое было услышано, слышат и будут слышать, дискурсивная структура определенной модели социального взаимодействия, которая в свое время неплохо сработала и стала своего рода матрицей или моделью коммуникации субъектов. Если произвести своего рода археологию этого дискурса “не дадим Церкви запретить науку” и т.д., то на мой взгляд исторически наиболее напряженно это звучало в эпоху Просвещения на границе двух идеологий: политизированной религиозной традиции и ее отрицания научного просвещенческого модерна.
Когда Церковь начали клеймить подавляющей инстанцией препятствия научному прогрессу, как я полагаю, бессознательно провозглашая атеизм с целью ликвидации прежней целеполагающей идеологии, завязанной на власти монарха, императора, папы и т.д. Примеры: протестантантизм (Лютер и т.д.), французская революция, русская революция и т.д.
Что касается последнего примера, то для большевиков ликвидация Церкви, как основного актора прежней имперской идеологии, была первоочередной стратегической задачей в идеологической борьбе, ибо место ответа на вопрос о смерти в идеологической структуре нового дискурса нового государства немедленно должно было занять всецелое упование на построение коммунизма на земле в последующих поколениях строителей коммунизма.
Так, на мой взгляд, родились устойчивые элементы настоящего культурного сценария, озаглавленные противостоянием Церкви и просвещенческого гуманизма. Это борьба властных идеологий, баталия, которая развернулась в социальном спектакле (термин Ги Де Бора) уводящим взор обывателя от истинных мотивов исторического события.
Сегодня Церковь, во внешнем своем режиме взаимодействия в обществе – это не та властная идеологизированная организация, которой была пять веков назад.
Сегодня прихожане читают книги по квантовой механике, пономари нашего храма читают работы Мартина Хайдеггера, одна из наших певчих своими руками создает роботов, обучает детей и готовится к защите работы на физмате, священники организовывают научные кружки на приходах, где все желающие обучаются программированию, сборке сложных электронных схем и т.д. При многих храмах открывают лектории, в которых выступают известные преподаватели.
Мы — христиане за образование, за творчество, за свободную мысль. Наша вера вдохновляет нас на научный поиск.
Таким образом, подобная нечестная игра СМИ с культурными императивами ради создания в обществе рейтинговой эскалации социального напряжения есть весьма дурной симптом современного общества.
Еще одно свидетельство глубокой болезни оценивания и обесценивания всего сущего человеком. Мы видим, что субъект замотивированный капиталом способен на любую ложь и искажение фактов ради сенсации и заполнения контента своего СМИ.
И это вопрос этического самоопределения как каждого в отдельности, так и всей совокупности участников процесса коммуникации.
И сегодня мы христиане, как никогда обращаемся ко всем и всех призываем мыслить критично, преодолевать прежние стереотипные культурные сценарии и задавать себе вопросы: кому это выгодно? Что он за это получает? Насколько достоверен этот источник?
Я высказал только лишь свое субъективное мнение, которое, конечно же, нельзя назвать мнением всей Церкви.»
Иерей Роман Степанов, клирик храма св. Николая г. Новочебоксарска